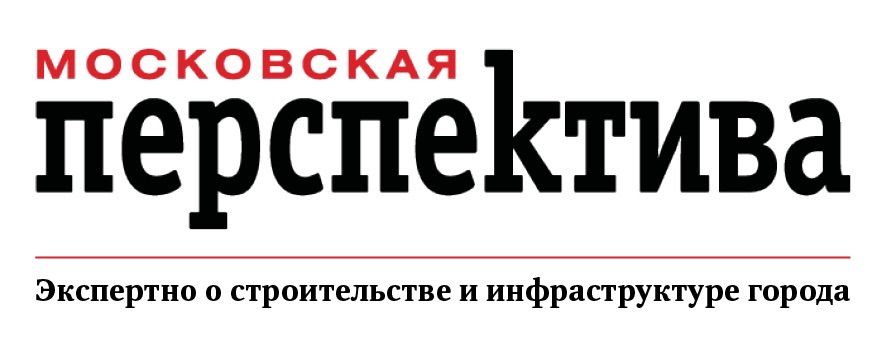Вдоль воды
1. В честь Софии Премудрости Божией
Самая главная набережная столицы, пожалуй, Софийская. Она находится напротив Кремля, что придает ей респектабельности. Особенно ценили такое местоположение постояльцы Кокоревского подворья. Эта гостиница располагалась в доме № 34. Художник Верещагин, останавливавшийся у Кокорева, вспоминал: «Задумав написать Наполеона, я выбрал именно Москву, потому что здесь завязан был узел нашествия на Россию двунадесяти языков, здесь разыгралась самая страшная картина великой трагедии двенадцатого года. Я чувствовал необходимость бывать возможно чаще в стенах Кремля для того, чтобы восстановлять себе картину нашествия, чтобы проникнуться тем чувством, которое дало бы мне возможность сказать правду о данном событии, правду не прикрашенную, но такую, которая действовала бы неотразимо на чувство русского человека».
Здесь же художник мог не только всего за несколько минут добраться до Кремля, но и постоянно лицезреть его из своего окошка.
Ценил подобную возможность и другой известный постоялец, Петр Ильич Чайковский: «Как у меня хорошо в гостинице. Я отворяю балкон и беспрестанно выхожу любоваться видом на Кремль».
Кроме того, здесь останавливались Чехов, Репин, Крамской, Васнецов (Аполлинарий), Мамин-Сибиряк, Мельников-Печерский и другие знаменитости.
Было на этой набережной также одно из престижнейших учебных заведений города, так называемое Мариинское училище (дом № 8). В нем воспитывались одновременно около 300 девушек, по тем временам курс обучения был довольно продолжительный – 8 лет. Одна из воспитанниц вспоминала о нем: «Московское Мариинское училище было учебным заведением полузакрытого типа. Часть воспитанниц жила в училище, другая же часть была приходящей. В 1896 году я поступила в училище и в том же году, если не ошибаюсь, в первый раз увидела Сергея Васильевича Рахманинова. Спокойной, медлительной походкой входил он в класс, садился за стол… Затем, опустив голову на руки, на пальцы, вызывал ученицу… Желая, чтобы ученица называла, скажем, интервалы в восходящем направлении, он, по-прежнему не глядя на нее и опустив голову, показывал движением первого пальца справа, какой интервал нужно было назвать.
– А теперь обратно домой, – говорил он. И палец двигался в левую сторону.
Своим детским сердцем я чувствовала, что передо мной сидит большой человек и стыдно не знать урока.
…В училище ежегодно устраивался в пятницу на шестой неделе Великого поста большой публичный отчетный концерт, или, как он у нас назывался, акт, собиравший всегда полный зал… Теперь, когда прошло столько лет, этот гениальный человек известен всему миру, трудно себе представить, что наш скромный хор воспитанниц пел под его изумительный аккомпанемент… Однажды, помню, приехал к нам с профессором Александром Борисовичем Гольденвейзером. Они играли на двух роялях первую сюиту Рахманинова. Музыка эта привела нас в восторг. В особенности последняя часть, в которой чудесно звучит тема праздника на фоне колокольного звона».
Учащимся редкостно повезло.
Странно, но неподалеку находился и завод Густава Листа (дом № 12). Здесь выпускали совершенно не гламурные насосы, что абсолютно никого не смущало.
Самым же уместным на той набережной был, пожалуй, особняк семейства богатого купца Харитоненко (дом № 14). Обстановка помещений, подобранная с большим вкусом, коллекция живописи – все это гармонировало с видами на Кремль. При этом все запросто, никакой позы, очень уютно, по-доброму. Татьяна Аксакова-Сиверс описывала здешний быт: «В Рождественский сочельник у Харитоненко устраивалась елка. В 9 часов вечера подавался ужин, причем под скатертью, по малороссийскому обычаю, лежал тонкий слой сена, поверх же скатерти – букеты фиалок и ветки мимозы.
Под салфеткой приглашенные находили какой-нибудь рождественский подарок. Девочки Клейнмихель и я, как наиболее любимые, находили обычно на тарелках замшевый футляр с какой-нибудь драгоценной безделушкой – чаще всего брошкой из мелких бриллиантиков или уральских камней. В 1908 году я получила на елку золотой браслет с подвешенной к нему медалькой святой Цецилии, покровительницы музыки, работы парижского ювелира Бушерона… У тех же Харитоненко мне пришлось много раз слышать Варю Панину – ее привозил брат Веры Андреевны, Сергей Андреевич Бакеев, у которого была с нею старая связь. Варвару Васильевну Панину обычно сопровождал ее аккомпаниатор Ганс. Грузная и очень некрасивая, она садилась у стола, облокачивалась на него и начинала петь своим низким грудным голосом так, что у вас не оставалось в душе ни одного уголка, не затронутого этими звуками».
Такое вот старомосковское очарование.
2. Дом как главная достопримечательность
Неподалеку находится еще одна знаменитая набережная – Берсеневская. Она знаменита в первую очередь так называемым Домом на набережной, огромным зданием, построенным в 1931 году для советской элиты. Он получил это прозвище с легкой руки писателя Юрия Трифонова, автора романа «Дом на набережной» – о детстве обитателей этого дома, сыновей и дочерей ответственных советских работников.
Впрочем, кроме Дома на набережной здесь есть на что посмотреть. Например, краснокирпичное здание бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (Берсеневская набережная, 6). Еще не так давно она благоухала всевозможными манящими ароматами, кондитерские запахи чувствовались даже на противоположной стороне Москвы-реки. Увы, сейчас здесь ничего не выпускают, а здание отдано под выставочные залы художников.
До революции же эта фабрика принадлежала немцу Эйнему. Она так и называлась –«Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений Эйнем».
А для любителей всего таинственного – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова (дом № 20). Одно время считалось (да и по сей день считается многими), что здесь проживал легендарный Малюта Скуратов. И рядом с домом – церковь Николы на Берсеневке. Одна из героинь «Лета господня» Ивана Шмелева приговаривала, глядя на крестный ход: «Черная-то хоругвь, темное серебро в каменьях, страшная хоругвь эта, каменья с убиенных посняты, дар Малюты Скуратова, церкви Николы на Берсеновке, триста годов ей, много показнил народу безвинного… Несет ее, ох, гляди не под силу, смокнул весь, ах, ревнутель, литейный мастер Овчинников, боец на «стенках», силищи непомерной, изнемогаети-то, а ласковый-то какой, хорошо его знаю, сердешного голубя, вместе с ним плачем на акафистах».
И было в этом столько ужаса, что невозможно передать.
3. В четырехтрубном доме
Интересна еще одна набережная московского центра – Раушская. Она так же, как и предыдущие, имеет значение промышленное – здесь расположена вторая по счету московская электростанция. Она была построена в 1897 году по проекту архитектора Басиена, с тех пор ее черные дымящие трубы «украшают» кремлевский пейзаж. Электростанцию воспевал Мандельштам, отводя ей немалое место в жизни нашего города:
Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
А вот Велимир Хлебников насчитывал не четыре, а три трубы: «Я особенно любил Замоскворечье и три заводские трубы, точно свечи твердой рукой зажженных здесь, чугунный мост и воронье на льду. Но над всем золотым куполом господствует, выходящий из громадной руки, светильник трех заводских труб, железная лестница вдоль полых башен ведет на вершину их, по ней иногда подымается человек – священник, свечей перед лицом из седой заводской копоти».
На самом деле труб гораздо больше, просто поэтически настроенные люди видят мир немножечко иначе.
Триумф электростанции пришелся на 1924 год, когда энтузиаст Арсений Авраамов сыграл на трубах «Варшавянку» и «Интернационал». Он использовал их как органные трубы: «Опыт сделан, сделан на скромные двадцать червонцев, отпущенные МК на все расходы. Это доказывает отсутствие в замысле утопического элемента. Затратив несколько большую сумму, приспособив к гудкам клавиатуру для сольного исполнения, мы сможем иметь грандиозный паровой орган, готовый к услугам Москвы в любой торжественный момент революционного быта. Быть может, внедримся и в бытовые будни, приветствуя «Интернационалом» начало и конец каждого рабочего дня, оповещая столицу о точном времени, вообще вытесняя и заглушая колокольный звон старой культуры рабочим ревом гудков и сирен, самим тембром своим много говорящим пролетарскому сердцу».
К счастью, до такой традиции дело не дошло.
А рядом (дом № 14) действовал клуб «Красный луч», разумеется, образованной при электростанции. Он с годами повысил свой статус до ДК энергетиков, однако смысл его существования остался тем же.
4. Славная речка, поганая речка
Удивительно, но в Москве, например, в отличие от поволжских городов, напрочь отсутствует традиция прогулок по набережным. Для этого традиционно используют парки и скверы. Единственная набережная, которая все же использовалась для развлечения и моциона, более не существует. Это набережная реки Неглинки, в этом месте сегодня разбит Александровский сад.
Впрочем, и те гуляния происходили большей частью зимой, когда Неглинка замерзала (а будучи неполноводной, замерзала она очень быстро). Летом же она не слишком соответствовала санитарным образцам. Одна из московских обывательниц писала: «Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие рвы, в которых стояла зеленая вонючая вода, а туда сваливали всякую нечистоту и сказывали, что после французов в одном из этих рвов долго валялись кипы старых архивных дел из какого-то кремлевского архива».
Это – наблюдения XIX века. Но еще в 1743 году обер-комендант Московского Кремля писал: «В разсуждении всякаго от мяснаго ряду и харчевен нечистоты и помету происходит не только в летнее время, но и в зимнее, вредная мерзкая вонь, так что проезжающим в Троицкие ворота через мост, а паче мне и прочим живущим в Кремле, не меньше же и близь того пруда на Неглинной обывателем по той нечистоте может наносить вредительную болезнь».
Так что сад на месте этой речки разместили очень даже кстати. Да и гуляющих от этого прибавилось.
5. Главные горы города
И все-таки есть в нашем городе одна набережная, выделяющаяся из общей массы. Это Воробьевская, над которой возвышаются знаменитые Воробьевы горы, издавна использовавшиеся как место для увеселения. Тут находился ресторан, оборудованные места для чаепития и даже работали «американские горки», про которые писала Анастасия Цветаева: «И были еще – Воробьевы горы, – в этих горах жили американские горы – как же про них рассказать? Спорили: «Неверно, это французские горы...» Мы не слушали. Было некогда: сердцебиение начиналось, еще когда среди старших мы подходили к ни на что не похожему сооружению из взнесенных, и падающих, и снова взнесенных горбатостей, обретя билеты, право на приобщение к полету, толклись с расширенными зрачками в ожидании зова. Когда же, удерживаемые и подталкиваемые, мы переступали какой-то порог, водружась на сиденье посреди пустоты, высоко над Москвой-рекой, не видя ни ее, ни светящейся дали, – ощущали, что внезапно что-то уходит из-под ног, и в свисте ветра, прыжка сумасшедшего, мы, вцепясь в перила, обрамлявшие сиденья, ухали в пропасть и, взлетев, рушились еще ниже в беспрерывном полете. Ты – переставал быть, ты только дышал и боялся, летел, пропадал, цепляясь за пол ступнями, и единственно твоим было биение сердца, захлебнувшегося собой. Нет, не так и не то: наслаждение, хрупкое, как свист ветра в ушах, как эти взлетанья и уханья в бездну, которые сейчас прекратятся... Взлет уже глаже, и по устающей сгорбленности, распрямляясь, вылетанье к концу, внезапно под ноги легшему... И тогда, обессиленные, под говор старших, медленно вверх по тропинке, в море кустов, – к той террасе крынкинского ресторана, где шипучка грушевая и пирожные, и оттуда – сиянье высоты, воздуха, и Москва вдали – россыпь жемчужин, и шелковым ручейком – блеск реки».
Словом, было чем заняться на Воробьевской набережной.